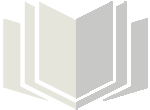Последний: памяти Валентина Распутина
 Когда писателя знаешь полжизни, пишешь о нем книги, постепенно он и сам становится для тебя «текстом». И ты читаешь его книги и судьбу, как «собрание сочинений», пока однажды не увидишь что он из «текста» стал твоим сердцем, твоей любовью, твоей жизнью.
Когда писателя знаешь полжизни, пишешь о нем книги, постепенно он и сам становится для тебя «текстом». И ты читаешь его книги и судьбу, как «собрание сочинений», пока однажды не увидишь что он из «текста» стал твоим сердцем, твоей любовью, твоей жизнью.
Литература теряет свои литеры и опять делается болью и светом, тьмой и победой живой повседневности. Или даже и не так, а наоборот, понимаешь, что литература это и есть единственно подлинная жизнь, свидетельство того, чем мы были, от чего страдали, во что верили и что будет нашим ответом перед Богом...
"...А с Распутиным ушла земная великая русская литература, которая помнила значение слова «народ» и сама была этим народом, его памятью, его совестью, его верой..."

На фото:
Валентин Распутин (слева) и Валентин Курбатов (справа).
Когда Валентин Григорьевич уже тяжело болел, я всё перечитывал и перечитывал его последнюю мучительную повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», после которой писатель уже не брал пера для больших книг, потому что её и читать зайдешься от боли, а пережить и написать никакого сердца не хватит. И думал, думал, куда же после этого страшного опыта, если выберется из болезни, будет выходить писатель, и куда следом за ним будем править мы. Да и как я сам, если еще придется писать о нём, буду поворачивать к возрождению, куда мы обычно поворачиваем из всех наших драматических контекстов, потому что выучились этому всем ходом нашей литературы. А вот подошёл край и тут уже ясно, что никакими словами о возрождении не спасёшься. Подлинно - край.
Ведь как-то по всему ходу повести видно, что она была не очередной, а подлинно последней в неукоснительном ряду, будто год за годом всё к ней шло. Сыпалось, сыпалось и вот чем кончилось. Всё под горку, под горку, до самого дна. Помните, как это Дарья-то в «Прощании с Матерой» говорила о горящей своей избе, о деревне, о жизни, - «поехала». И вот «доехала». А мы и возмутиться и спросить не знаем с кого, лада и права на этот спрос не имеем. Потому что не вдруг ведь всё случилось, а вон сколько, в том числе и при нашем попустительстве, «ехало».
Художник никогда не молчал, да слышали мы его плохо. Он все годы стоял, как любимый нами в шестидесятые годы мальчик Холден Колфилд из повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (всегда мы чужих детей слышали лучше, чем своих) над этой самой пропастью, и удерживал нас над нею, ловил, остерегал, кричал. Всё перепробовал, но мы всё летели на беспамятство, как на огонь. Он, кажется, один был так неукоснительно последователен среди товарищей, которые могли и на другие сюжеты отвлечься, и в «историю сходить». А он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение.
Ему давали Государственные премии, делали Героем Труда, а он будто не видел ни чести, ни славы, потому что пропасть не отодвигалась и, значит, как порой в отчаянии казалось, голос его не был слышен. И высокие комитеты, депутатство, Президентский Совет нужны были только всё для того же крестьянства-христианства, для удержания памяти, для спасения перед исторической бездной, чтобы не надо было русским старухам со своей землёй и любовью оставаться на дне рукотворных морей, а русским женщинам брать в руки обрез и принимать на себя функции государства, раз оно само не хочет выполнять то, что обязано.
Все кто читал его год за годом (а все хочется, чтобы это были мы все), видели, что он всегда, с самого начала, с «Василия и Василисы», с «Денег для Марии» слушал больное русское сердце, ища ему исцеления. Он всегда был неудобен и всегда (как церковь в её высоком и правильном понимании) «мешал нам жить» в наших слабостях и меньше всего обманывал себя и других «возрождением», потому что всегда имел слишком острое зрение.
Он умирал вместе с Анной («Последний срок»), уходил под воду с Дарьей («Прощание с Матерой»), погибал с Настеной («Живи и помни»), брал обрез с Тамарой Ивановной («Дочь Ивана, мать Ивана»). Он знал мужество скорби и одиночество смерти и всегда был тем, что есть, с нерушимой кристаллической решёткой.
Теперь уже навсегда ясно, что это он с горькой твёрдостью и правом поставил памятник русской деревне, утонувшей на наших глазах невозвратно, как Атлантида или Китеж. И мы-то ещё, может, и не поняли, что невозвратно, и ещё обманывали себя заплатками, а он уже знал и строил ковчег, чтобы, если не «всякой твари по паре» (не оставалось уже никаких пар), то хоть последние народные духовные ценности уберечь. И последний раз напомнить, как мы были близки к тому, чтобы мир услышал тайну и силу русской правды, о которой он догадывался по книгам Толстого и Достоевского, Шмелёва и Бунина, Распутина и Астафьева, диалога с которой искал, но которую руками своих политиков с нашими подпевалами сам и топил, не понимая, что топит и свой дух, и своё спасение.
Оглядываясь сейчас напоследок в его творчестве, в его святых героинях, я вижу, что, стоя в сердце жизни, он простился не с веком даже, а с тысячелетием, до ниточки высмотрев то святое, высшее, крепительное, чем жила родная Россия, которая никогда не была для него отвлечённостью, а была в разное время Анной, Дарьей, Настеной, Тамарой Ивановной – всегда именем, жизнью, долей и правдой. Всегда любовью и верой.
Теперь история пойдёт другой, может быть, более умной, цивилизованной дорогой (нас не зря не просто звали, а тащили на неё силой, лестью, подкупом), и она, коли привьётся к своей мысли, культуре, вере и слову, останется русской дорогой. Но это будет другая история и другая Россия. А с Распутиным ушла земная великая русская литература, которая помнила значение слова «народ» и сама была этим народом, его памятью, его совестью, его верой.
[Текст впервые опубликован на сайте культурно-просветительского сообщества «Переправа»]
Валентин Курбатов