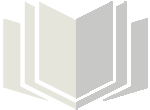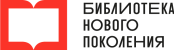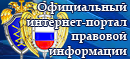Рогачева Ольга Ивановна родилась в 1955 г. в г. Пржевалъске Киргизской ССР, окончила Фрунзенский политехнический институт, Народный университет журналистики при Союзе журналистов Киргизской ССР. Печаталась в республиканских, областных и районных изданиях: "Советская Киргизия", "Вечерний Фрунзе", "Псковская правда", "Печорская правда", "За ударный труд", "Знамение времени" и пр. В 1999 году в Печорах вышла книга стихов "Перенова". В настоящее время живет и работает в Печорах.
ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО С ЛЮБОВЬЮ...Тёплый вечер пугливым телёнком
Влажным носом уткнулся в колени.
Ароматом, как ситчиком тонким,
Занавесился куст сирени...
И тумана подстилка стёганая
Схоронила беседку и пруд.
Банька лёгкая, свежестроганая,
Но давно уже здесь не живут...
Александр и нянька Арина.
Есть скамейка для ног у камина,
Свет иконы, да пыль клавесина.
Вдруг поймёшь, неуклюже крестясь,
Что должно не одно поколенье
Здесь молиться, себя не стыдясь,
Чтоб за всё получить прощенье...
Май-июнь 2001 года
* * *
Вот и лето Господне, это лето – моё!
Дождь, крапива в саду, одуванчик, жнивьё...
Аист, голубь на крыше и тюльпана бутон,
И ромашки в рубашках и калин белый сон.
По земле захмелевшей муравьем я ползу,
Прямо с неба на спину дождь уронит слезу.
В небе ласточку видишь? Посмотри – тоже я!
Обгоняю со свистом ходока-воробья.
К землянике лесной захочу на поклон,
В этом храме услышу колокольчика звон.
Это всё происходит каждый день наяву.
В это лето Господне я – везде, я – живу!
17 июня 2001 года
* * *
Я люблю тебя так: по чуть-чуть, не всерьёз,
От грустинки лукавой – до радостных слёз.
За тревогу твою, если плачется мне,
За герань и рассаду на нашем окне.
За безгрешную оторопь ласковых глаз,
И за то, что сын вырос красивым у нас.
Ах, со мною беда: не прилечь, не присесть,
Но ты любишь меня, такую, как есть...
Июнь, 2001 г.
* * *
Ручей спиной толкает лёд,
И ушки тянет вверх рассада,
И будет снова свежий мёд
С посаженного нами сада.
Пройдёт зима, весна придёт,
Разметит огород на грядки.
А старый кот и в этот год
Переболеет мартом сладким.
Бродяжка-дождик босиком
Прошлёпает всю ночь по луже...
Сын повзрослел, построен дом,
А ты по-прежнему мне нужен!
10 июня 2001 г.
* * *
Третий день глазам своим не верю:
Аист кружит возле дома, что же это?
– Птица милая, так ведь за этой дверью,
У меня давно в гостях уж бабье лето.
– Нет до этого мне дела, адрес верный!
Дочь должна ты мне ещё, не забывай!
А вот бабье лето, факт проверенный,
Очень щедрый дарит часто урожай.
Ах, упрямец, ну какие дети?
Аист глупый, ты подумай сам...
Да не верю я в приметы эти!
Ну, а долг свой лучше внуками отдам...
Июнь 2001 г.
* * *
Беда – не боль, она проходит.
А боль на то и боль – болит...
Привяжется, собакой бродит,
Не спит, не ест, а всё скулит.
Пронзает сквозняком обида,
Глаза от глаз отводит ложь.
Как больно! Не подам я вида,
А то ведь сразу – пропадёшь...
Вы судите судом неправым.
Публичным будет мой правёж.
За что мне это? Боже правый,
Кому-то очень невтерпёж...
Я в том жару дотла сгорела,
Который нынче разгребли
Чужие руки быстро, смело!
Вы это допустить смогли...
На всё бывает воля Божья,
Она свершилась, так светло.
Я поняла! И что, возможно,
Добро без меры – тоже зло...
Июнь 2001 г.
* * *
Мир прекрасен в своём совершенстве, мой друг.
Здесь порядок царит и покой, и уют.
Но внимательней ты приглядишься вокруг:
Чьи-то кости трещат, чьи-то зубы – жуют...
1999 г.
* * *
Я больше не в ладу сама с собой,
Устала на ошибках повторяться
Хочу назад: сама к себе самой.
Хочу щекой сама к себе прижаться...
Ну, кто мне виноват? Уж вышло так,
Что исповедую сама себя и снова каюсь,
Что на себя спускаю всех чужих собак,
А на судьбу за что-то обижаюсь...
Сама себе я проповедую беду,
Когда опять шутить пытаюсь с дураками.
За отпущением своих грехов в огонь иду.
Не надо только в душу лезть руками!
Натруженное сердце – как мозоль,
Не терпит никаких прикосновений.
А милость и немилость – та же боль.
И все, что было – морок сновидений...
04 03 01
* * *
Жизнь разбита на осколки:
Суждено – не суждено.
И в овечьей шкуре волки,
Так уж здесь заведено
Судит их закон нестрого,
Так уж здесь заведено.
Воскресений грешных много,
А прощёное – одно...
25 02 01
* * *
Брызги слякоти хрустальной,
В черно-белом, подвенечном,
Март-грачевник, март-растайный
По любви с весною венчан.
Март капризный, март лукавый,
Наугад и наудачу.
Невиновный и неправый.
Я о нём смеюсь и плачу...
Март разбрызган, бестолковый,
В колокольчиках-капелях.
И ледяшек хруст целковый,
В чистых лужицах-купелях.
Ночью тайною, хмельною,
От заката до рассвета
Загуляет март с весною,
А потом родится – лето!
01.03 01
* * *
Лето сеном шуршит под ногами
И кукушкой гадает в лесу.
Хороводит-кружит мотыльками,
Конопушкой уснет на носу.
Одеялом лебяжьих туманов,
Отогреет ромашки в лугу,
От лукавых, ненужных обманов,
По росе босиком убегу...
Палевое закатное зарево,
Отразилось на тихом пруду.
Закипит колдовское отварево...
Захмелею! С ума с ним сойду!
Нам Иванова ночь – на пагубу.
И в огнище вдвоём пропадём...
Так целуй мои мятные губы!
Мы дороги назад не найдем...
10.03.01
* * *
Чуть шевельнет ольха сережкой,
Грач заглядится на межу,
Роскошной, мартовскою кошкой,
Я, как всегда, в весну вхожу!
Горит маняще глаз зеленый,
Нос по ветру и хвост трубой.
И вожделенный взгляд нескромный,
Повсюду следует за мной.
А ты, паршивый кот вальяжный,
Зимой меня не ставил в грош,
Сегодня сам, хоть с виду важный,
В зубах мне мышку принесешь!
10.03.01.
МОИ СТРОКИ, КАК НИТИ ДУШИ...
Не пишу свои строчки – дышу.
От меня это сыну останется.
Может быть, оттого так спешу,
Что не знаю, как долго протянется
Тонкой ниточки целость моя,
Из души долгой болью добытая.
Не готова ещё та скамья,
Что судьбой из-под ног будет выбита.
Узелками на ниточке той
Укажу остановки, как памятки.
Распускать их – тебе, мой родной,
В этой каторжной жизненной замети...
Поддержу, помогу, подскажу,
Дотянусь до тебя я из прошлого.
Душегрею из нитей свяжу,
Оберегом тебе, мною ношеным.
Я и там помолюсь за тебя...
16.02.99.
БАБКА БЕЛАЯ, БАБКА ЧЁРНАЯ...
Неуместные об эту пору погоды стояли в наших краях. Бывшая сочная огородная зелень теперь уже третью неделю июня задыхалась от безводья. Старики неодобрительно взглядывали в безоблачное небо, которое будто корова языком вылизала, вздыхали и пытались припомнить, когда на своём веку последний раз они такое видели. Тина у картошек вот-вот повиснет линялыми портянками на высохших бодылках. Её руками в поле не наполиваешь. Отдельные умельцы пробовали, было, уличные поливалки с этой целью приспособить. Да уж куда там! Струей, как водомётом, вышибает картошки из гнезда. Земля-то сухая. Невесомая.
С каждым днём напряжение нарастало. Серыми змеёнышами по всем щелям расползались какие-то слухи, а с ними тревога и беспокойство. Кто-то от кого-то где-то слышал, что опять мужик на Тиглицком утонул. И уж, конечно, (кто бы сомневался!) – это русалочьих рук дело. А кому интересно знать, скажите на милость, что утонул вовсе и не мужик, а баба. И не на Тиглицком, а на Утицком?
Меж тем духота сгущалась почти до осязаемого состояния, и, казалось, достаточно хоть громкого чиха, чтобы произошло нечто из ряда вон выходящее. Ни птичьей трескотни, ни собачьего лая, ни комарья докучливого: все будто повымерли. Люди ходили смотреть на чаек: в добрые времена, они, орущие над своими болотцами у завода, а нынче днями мечущиеся над гнездовьями, только изредка издавали звуки, больше напоминающие стоны. Видно, что и среди птиц тоже неладно.
В общем, отдельно взятое местечко накрыло болезненно мнительное, угнетённое состояние ипохондрии, при котором навязчивая идея надвигающейся то ли беды, то ли болезни стала сама собой разумеющейся. Оставалось дождаться – когда?
* * *
День был – среда. Так себе. День как день, словно безымянный палец на руке. Что о нём говорить, если он не базарный?
Совсем пустой, одним словом, день. Народ, было, сунется на рынок, ну а что там делать, если нет никого? Ведь не за ради же пропитания туда весь город сходится! Рынок этот для горожан, что Арбат для Москвы или Невский для Питера. Народ свободно дефилирует там, делая вид, что пришёл за покупками, а на самом деле, только и ищет повода, чтобы зацепиться "случайно" друг за друга.
– Доброго здоровья, Филипповна!
– Базаркуешь, Ивановна?
А зацепившись, уже вытягивают друг из друга все мыслимые и немыслимые новости, какие случались со времён крещения Руси вплоть до наших благословенных дней. Этот ритуал, освящённый махровой привычкой местных старожилов, обозначенный, но не описанный протоколами, соблюдался, тем не менее, со всем тщанием и всеми без исключения. Даже разные кандидаты во время выборов заходили первым делом на городской рынок. Потолкаться среди "лектората". Охотно пробовали у сидящих за прилавками баб капусту и солёные огурцы, широко, как родным, улыбались всем без разбору. Лапали дедов, степенно предлагающих обозерской снеди. А народ, одуревший от такой демократии, лез под сурдинку, не теряя смекалки в отношении надежды на скорое разрешение своих проблем. Не менее охотно заводился и "тыкал" в ответ пузатым кандидатам, досаждая крохотными пенсиями и всяким прочим отсутствием "детских". Даже бродячие кобели, обычно промышлявшие в мясном ряду, и те, будто невзначай, совались под ноги вновь избирающимся и получали-таки свою предвыборную пайку.
Кандидаты про себя думали не иначе: "Дураку стеклянный хрен не надолго...", а вслух бойко изобличали действующую власть во всех мерзостях и клялись, брезгливо хрустя капустой, искоренить всё социальное неравенство сразу, в случае их избрания, посредством первого же своего постановления.
Были и такие, которые ходили на базар каждый день, без заделья. Ходить сюда и собирать на "хвост" всё, что попадалось, а потом растаскивать "новостя" по городу и было их основной работой. Да вот она, одна из них! Ух, я-р-р-рая! Глянь-ка, глянь! Пошла по рядам. Ни одной торговки не пропустит! Всё прощупает да попробует, а сама, меж тем, и поспросит, и послушает. Таки нарезает, так и нарезает круги по базару!
Глаза, приученные к подглядыванью-подсматриванью, сами не должны привлекать к себе внимания. И потому спрятались они в наблюдательную щель: между нависшим верхним веком и нижним припухшим. Надёжно. Притупились за мохнастыми бровями. Замаскировались. Лицо плоское, как лист, изукрашенное конопатинами, будто капустной молью побитое, внизу, на подбородке, – редкие седые волосины. А язык при разговоре едва за словами поспевает, а за мыслями – тем более. Так что понять смысл её слов – нет никакой возможности! Дед, Иван Михайлович (покойник, царство ему небесное), сказал бы, что шрапнелью режет. Одно слово – Расторопша! Такая ж пятнистая и колючая. Только вот, от расторопши огородной польза великая: лечебная она. А от этой – ничего, кроме умственного вредительства. Так что сходство (прости, Господи) внешностью и ограничивается.
Увидавши Валентину Филипповну, женщину хоть одинокую, но самостоятельную, Расторопша освежилась прям вся:
– Здравствуй, Филипповна. Гдей-то ноне сочила?
– Да, вот, маюсь, Романовна, хряпотой. Тольки хрянец ломать перястало, дан после троицы, хряпоту поддела.
– Ахти, тошно моё, Филипповна! Зато я тебя и ня вижу!
– Хочу к бабе Шуре наведаться. Она днями сношку мою пользовала. Говорит, полягчало.
– Етто к чёрной-то бабке пойдёшь?
Тут Расторопша, оглядевшись скоренько по сторонам, воровато припала к платку Филипповны, за которым с готовностью оттопырилось глуховатое ухо навстречу товарке. Обе бабы напоминали собой высоковольтную железобетонную опору: прямая, как жердина, Филипповна и притулившаяся к ней Расторопша. Казалось, что от них, как по невидимым проводам, понеслись побежали удивительнейшие новости. Судя по тому, как им удавалось сохранять свою монолитную позу – напряжение в сети было очень высоким. Разобрать хоть что-то не представлялось никакой возможности. Конспирация была полная. До любопытствующего доносились только отдельные слова: "...помярае... заместо себя ня оставивши! Чтой-то будет!.. Молись, Филипповна!".
Бред какой-то! Но по мере проникновения свистящего Расторопшина шёпота в наэлектризованное сознание Филипповны, глаза у той округлялись, а щёки (в кои-то веки!) зарделись всеми склеротическими жилками сразу, будто нити накаливания. Казалось, приставь ей ко лбу электрическую лампочку – сей же час и засветится!
Однако основные события этих дней разворачивались не на базаре, а примерно в километре от дороги, что ведёт грибниковна Серебряный ручей. Там, затихарившиеся в сосновом перелеске, стояли особнячком, достаточно кучно хуторки. Может когда-то это и была деревня, но теперь огоньками по вечерам светились окна только четырёх срубов. Место, довольно недоступное для посторонних – впереди, невидимая, пролегала пограничная полоса и пускали сюда неохотно. Это если по дороге. Но довольно плотно уторканная тропинка, юркнувшая от перекрёстка, в обход КПП, указывала на то, что народ предпочитал пользоваться именно её услугами. Вдоволь поводивши за нос, напетлявшись меж кустов и окончательно сбив с толку доверившегося ей, тропинка, всё же, аккурат выводила прямо к хуторам.
Снаружи, по избам, сразу можно догадаться, где управлялисьженские руки, а где хозяйские, мужские. Вон у бабы Шуры, у бабы Дуси да у Марии Григорьевны хатки, хоть и ушли в землю почти до нижнего венца, зато цветочки на окнах да занавесочки есть. А у бабы Душной домовины и конёк просел, как седалище у старой кобылы, а всё одно: двор чисто убобран и скотина примерно обряжена. А у соседа, деда Пятуна домишко крепится. Но тоже, словно гриб колосовик, снаружи ещё ядрёный, а внутри червивый весь. Лучше всего обихожено хозяйство у Марии Григорьевны. Ну, это и понятно! Ей управляться дочки со внуками помогают. Казалось, ничего примечательного и нету. Избы как избы, если б не огороды, которые размещались рядком на бывшей когда-то колхозной пашне. Интересное дело получается: четыре огорода, а значит – три межи. Так вот, между участками Марии Григорьевны, деда Пятуна и бабы Дуси, с одной стороны, не было, считай, никакой межи: по каким-то невидимым посторонним глазам меткам они умудрялись не нарушать границ владений друг друга: и огороды и межи были тщательно выполоты, а кой-где плетешки либо огуречные, либо тыквенные так и норовили переползти на соседскую грядку. Не беда, если на них что и вырастет! А вот меж огородами бабы Дуси и бабы Шуры, с другой стороны, пролегал ощетинившийся ещё прошлогодними хворостинами почти метровой ширины пласт земли. Будто кошка чёрная пробежала, да не одна, а целая стая. Обычно жадный до земли хозяин ни за что не позволит землице пустовать, а тут пол-огорода добротной пашни парует. Тут каждый задумается! А, подумав, скажет: "Оно мне надо?". И правильно. Сюда лучше не соваться. Уж который год бабы лютовали одна против другой. Нони бабка Дуся, ни, тем более, бабка Шура явно не выказывали своего отношения друг к дружке. Иногда, от долго сдерживаемых чувств, бывало, возясь на огороде, и незаметно для самих себя подтягиваясь всё ближе и ближе, они, наконец, схлеснувшись на общей меже, вдруг с остервенением начинали рыть лопатами землю, каждая со своей стороны, забрасывая её к себе на огород. Будто можно вот так, взять да и вычерпать землицу с межи до конца. Но стоило кому-то из хуторян "невзначай" показаться на своём огороде, бабки моментально успокаивались, а дед Пятун, потому что, как правило, это всегда был он и только он, как единственный на всех мужик, имел на это право, за что, кстати, и носил с гордостью своё любовное прозвище Пятун. В миру ему имя было Петр Сергеевич. Да уж все давным-давно позабыли его, равно, как и сам дед. Сегодня также кстати подоспевший Пятун врезался в бабий скандал, как колун в полено:
– А что, девки, ёблачность-то, кажись, повысилась? Може Бог дожжа дасть? А?
Едва переводившие от потасовки дух, бабки торопливо убирали распотрошённые и намокшие волосюшки, от усердия, не по годам приложенного, раскраснелись, даже вроде помолодели. Делано улыбаясь, говорили нарочито громко, с явным расчётом хоть языком достать лишний раз:
– Ето вон тябе Евдакея скажеть! Картишками кинеть искажеть. Куды уже мне?
– Етто пока я картишками кидать буду, ты ж всё и сделаешь! Не у тебя что ль сухота сделана? Может, ня ты молоко у коровы Марьи Григоровны присушила? А? Да кто ж ня знает, что у тебя хвостастый в бане живёть!
– Ты, Евдакея, говори, да не заговаривайся! Сухота не на одну нашу ёбласть нонче распростёрлась! – опять решительно встрял дед, действуя на баб, как кипяток на дрожжи.
– А то ты ня знаешь, хренотень старая, что ей и ёбласть твоя нипочём! Вон, вясной типлят вместе брали, а у ейных тяперь всё одноноги толще! Мои зато все хромые! Не у ей что ли сделано? Да ты, Пятун, сам как чуть – к ней шастаешь! Маклок у яво, вишь ли, ломит!
Странно молчавшая до сих пор бабка Шура, напрягаясь всё больше и больше с каждым словом Евдокии, расправлялась, разглаживалась вся и, наконец, выпрямилась, как от тяжёлого снега дородная ёлка, осевшего вдруг с её веток. Даже морщинки разошлись на лице, разгладились. Опешившему до крайности деду даже показалось, что перед ним стоит прежняя, со жгучими, как крапива, глазами, черноволосая, без сединки красавица Александра, из-за которой в своё время не сложилась в том числе и его судьба. Она, было, открыла рот, чтобы ответить достойно расходившейся Евдокии, но неожиданно для всех у неё безостановочно хлынула горлом кровь. Бабка Шура не могла больше говорить, но взгляд, как серная кислота бумагу, прожигал, разъедал всё то, во что упирался. А упирался он сейчас только в Евдокию.
К вечеру, так и не проронив больше ни слова, старая Александра преставилась. Стало быть, глаза всё равно закрыла не по своей воле, а соседка Мария Григорьевна, когда обряжала усопшую. Но непокорные, неуспокоенные и чего-то упорно ищущие, они то и дело приоткрывались, и тогда казалось, что бабка потихоньку доглядывает за всем, что творится в её избе. Читать по Александре никто не согласился, несмотря на щедрые посулы соседей. А и народ не шёл проститься. Бабка Шура лежала одна в своей избе, вытянувшись стрункою, лёгкая и невесомая, в испуганно шарахающемся свете поминальной свечи: так, прилегла отдохнуть сустатку. Её незастывшее тело, даже несмотря на духотищу, не поддавалось ни малейшему тлению, а, напротив, на щеках по-прежнему держался румянец. Хоронить бабку Шуру решено было завтра.
* * *
В пятничную ночь, как-то, неожиданно быстро, но по-хозяйски плотно, небо обложили черные, брюхатые тучи. То и дело нервная, непредсказуемая, как тик, молния, прошивала их дородные мощи. Глухое, утробное урчание грома, будто от несварения в гигантском брюхе, отражалось от притихшей земли и разряжалось мощными раскатами где-то в верхотуре, и потому стоял беспрерывный какой-то не то гул, не то вой. Ему даже не надо было быть злобным, а достаточно было быть таким, какой есть, чтобы дать понять непонятливым всю его неукротимую силу и потустороннюю мощь. Люди, было, бросались в огороды прикрыть плёнками огурцы с помидорами. Но уже первый порыв ветра, несущегося впереди грозы, как игрушечные, перевернул парники, ярясь и возбуждаясь, рвал в клочья обтягивающий их целлофан, и уже, всё более и более наглея, пробовал свои силы о шиферные крыши домов. Стало очевидным, что уместнее было бы подумать как схорониться самим. Теперь уже в кромешной темени казалось, будто неведомая орда, воя, свистя и хохоча, носится на чёрных озверевших крылатых конях, размахивая боевыми кистенями и круша всё без разбору. Кистеня обрывались с цепей, валились на землю в виде градин чудовищной шарообразной формы с шипами, превращая пашни в месиво и обламывая сучья деревьев.
Наконец, апофеозом ко всей разгулявшейся бесовщине, раздался последний самый страшный удар грома, после которого земля вздрогнула, и стало тихо, как в первый день творения. В такие мгновения либо бог шельму метит, либо дьявол принимает грешную душу без покаяния, в бессильной злобе своей наказывает безвинного. Следом, немного погодя, будто тщательно высматривая жертву, Великий и Страшный сверкнул очами в ничем непримечательный домик, особнячком стоявший на городской окраине. Прицельная, прямо в электрический счётчик разрешившаяся молния мгновенно вызвала короткое замыкание проводки, и вспыхнуло жилище, как пучок соломы: жадно и торопливо.
Но, видимо, в эту ночь не дремал и тот, другой: Суровый и Справедливый, потому что находящиеся в доме люди: трое взрослых и четверо детей, не успев ещё понять, что остались без крыши, успели выскочить из неестественно быстро горящего дома кто в чём был. Но обожравшийся уже огонь всё равно не позволил даже приблизиться к сараю, в котором заживо горели две коровы – кормилицы всей семьи.
* * *
На следующий день, ближе к обеду, Мария Григорьевна, дед Пятун да мужики по найму вошли в избу бабки Шуры с тем, чтобы отправить её в последний путь на городское кладбище. Мужикам-то ништо, они её не видали раньше, а вот Марья Григорьевна едва на ногах сдержалась. Даже замшелый Пятун и тот торопливо перекрестился, а потом сухо и зло плюнул с досады, может даже на самого себя: "Ишь ты, выщерилась!". Бабка Шура, и правда, за одну ночь почернела лицом, рот приоткрылся, а зубы оскалились, будто в улыбке. Упрямо открытые глаза упорно сверлили потолок, в котором зияло небольшое, невесть откуда взявшееся, отверстие...
После сороковин на Александру, вслед за ней отошла и Евдокия.
16 марта 2001 года
В огромных валенках, вся в каких-то лохмотьях и шалёнке, для тепла раза два перекрученной вокруг головы, у входа нагородской рынок стояла старушка. Тут же, у ног, судя по вмятинам, видавшая виды алюминиевая кастрюлька для хлеба. Рядом с кастрюлькой на тюфячке возлежала собака. Грязная, свалявшаяся в клочья и порядком поредевшая шерсть, давно утратившая свою былую пушистость, была когда-то, пожалуй, кофейного цвета. Из одежды на собаке присутствовал ошейник и ещё что-то вроде попоны, которой старушка всякий раз заботливо укрывала зябнущее, вздрагивающее тельце. Остатки роскоши на мордочке были аккуратно собраны в жиденький пучочек и украшены жёваным капроновым бантом либо розового, либо голубого цвета. Это что касается украшений. Прошлогодние репьи, насмерть закатавшиеся в редкой растительности на ребристых боках, пожалуй, нельзя было отнести ни к одежде, ни к украшениям.
От ошейника тянулся замызганный поводок, свободный конец которого опоясывал старушку. То ли собака была привязана к старушке, то ли старушка к собаке – трудно сказать, кто из них больше нуждался друг в друге.
Лицо у старушки смуглое, немилосердно исполосованное морщинами, будто потрескавшаяся кора старого тополя-осокоря. Глаза черные, без блеска, не злые и не добрые: грустно-покойные какие-то. Скорее требовательные, чем просящие, и тот, на ком время от времени останавливался их взгляд, непременно опускал ей что-нибудь в кастрюльку. А вообще-то, она ни на кого конкретно не смотрела. Выражением лица не жалобила и не липла к прохожим. Это они, наоборот, бесцеремонно и с раздражением шарили по нелепой фигурке глазами. Но было в её взгляде нечто такое, что заставляло почему-то именно их торопливо отворачиваться и суетливо елозить руками по карманам, пакетам, выискивая хоть что-то, похожее на подаяние. Рук за милостыней старушка не протягивала, опиралась ими всё время на жиденькую палочку. Кто знает, может и опиралась только затем, чтобы не протягивать? Торговки с рынка говаривали, что так оно и есть. Ведь для того, чтобы подать, приходилось сначала самому "поклониться" ей в ножки...
Как и хозяйка, собака так же спокойно и с достоинством разглядывала что-то такое над головами у толпы, чего никто другой разглядеть кроме них, казалось, не мог, даже если очень захотел бы этого. Словом, они никак не реагировали на подающего: старушка с собакой ни у кого ничего не просили, ни с кем не разговаривали, а просто... ждали, когда кастрюлька наполнится хлебом.
Ближе к середине дня, когда рынок начинал потихоньку сворачиваться, старушка, держа в одной руке ненужную ей до завтра палочку, в другой несла потяжелевшую кастрюльку за тряпицу, прилаженную вместо ручки. Собака, по-прежнему привязанная к старушке, вяло семенит за ней на своих кривых и коротких лапах. Они медленно, с остановками бредут по проложенной ими же тропе, вдоль монастырской стены. Никто не обращает на них внимания. Возле небольшой стайки молоденьких липок, ещё совсем озябших, но уже отвечающих на первую ласку солнца блеском ветвей, они остановились. Старушка трижды наложила на себя крестное знамение, глядя на монастырские головки, лазоревые, изукрашенные звёздами и увенчанные золотыми крестами. Сегодня они радостно искрятся, то ли от благовеста, который словно очищает воздух от духовных немощей в пределах своей слышимости, подобно серебряному кресту, который опускают в купель к окрещаемому для очищения его от телесных недугов, то ли от первого весеннего солнца, несущего новую радость и новую надежду. Поставив на огромный валун, как на столешицу, свою кастрюльку, изработавшими свой век, непослушными руками, путавшимися в тряпице, старушка начала возиться с крышкой.
Если старая женщина не привлекала к себе никакого интереса со стороны людей, то несколько сот других очень внимательных и голодных глаз наблюдали за каждым её движением, потому что стоило ей тяжело разогнуться, как вокруг забурлил, зашелестел, задвигался тугими крыльями упругий воздух. И сотни голубей начали падать, будто серые камни с неба, садясь на голову и плечи старушке. Она черпала пригоршнями из своей кастрюльки размоченный хлеб и раздавала, рассыпала вокруг то единственное, что она могла дать этим небесным бомжам – возможность не умереть с голода. В ответ благодарные птицы облепили старушку всю, с головы до ног, отдавая ей, в свою очередь, то единственное, что осталось у них – свое тепло. Масса из серых, шевелящихся комочков, очень похожая на груду булыжника, успокоившись на какое-то мгновение, явила собой живой памятник всем разбросанным когда-то камням, собранным вдруг в одном месте – на дорожке ведущей к храму, наверное потому, что каждый это делает, как умеет, конечно...
Люди останавливались, смотрели, удивлялись. Особо находчивые спешно фотографировали улыбчивые лица родственников рядом. Многие затем торопились на вечернюю службу, помолиться, чтобы постичь заповеди Божьи, уяснить смысл ЕГО учения.
А голуби были ничьими. И старушка с собакой тоже...
* * *
Еще на подступах к монастырю прихожан и паломников встречает толпа нарочито неряшливо одетых людей. Все они очень разные: молодые, старые, калеки на костылях, инвалиды и не очень. Вон, у самых ворот, стоит монашка с коробочкой на груди, сплошь изрисованной крестами.
– Подайте, Христа ради, на строительство храма Божия!
Бесконечно крестясь и избегая глядеть в глаза, гнусаво канючит она не переставая. Ох, уж эта Валька! Всем местным доподлинно известно, что сия особа, подпустившая не одного красного петухасвоим соседям, никакого отношения к монашескому чину не имеет.
– Строют храмы, строют, а верующих христиан больше не становится. Так себе... одни молящиеся, – проговорила женщина в платочке, явно не имеющем отношения к её гардеробу. Одета она была скорей стильно, чем обыкновенно. Вздохнула, но всё же просунула купюру в коробочку "монашки". Приезжая, наверное.
Вот стоит многодетная мать, посиневшая в заботе о своих малолетних детях. Кстати, все они тут же. Шныряют серыми воробышками между неповоротливыми инвалидами и успевают первыми разжалобить рассеянных туристов, пока те удивлённо цокают языками на рассказы экскурсовода о том, что по этим камням хаживал сам батюшка-царь Иван Васильевич Грозный.
А мальцы лет по тринадцати, бойко пристающие ко всему, что шевелится, ничуть не смущаются, называя себя сиротами и инвалидами с детства. Пожалуй, это справедливо.
– Лёх, ну ты чё, загрузился, в натуре?
– Ага, прям по самые помидоры! Да ладно, пошли Егорша. Всё равно щас навару не будет, теперь уже когда народ с вечерни повалит.
Идут в кафешку, да не в какую попало, а в ту, что получше. Там Ленка-официантка закассирует монету на вес и подаст им за отдельный столик отменный обед с фирменными отбивными, а на десерт сигареты с пивом.
Но все это мелочевка по сравнению с колясочником Саней. Руки у Сани золотые. Но много ли сейчас руками заработаешь? Да и на пенсию инвалидскую далеко не уедешь. А ведь он семейный. Женился на детдомовке Любке, да ещё помощника себе соорудили. Покормит его Любка, грудного, да и поставит в коляске рядом с папашей. Сама же неподалёку из-за кустов наблюдает. Поможет, если Васька сильно раскапризничается. А когда в меру, так это только на пользу. Больше подают. Психика у Сани добрая. Только не перечь. Мигом за костыли хватается. Виртуозно ими владеет, надо сказать.
– Ты, Любка, смотри! Если узнаю, что от меня налево гуляешь – убью! И экспертизу я тебе на Ваську устрою!
У бедной Любки глаза и так от природы в разные стороны смотрят, а тут от страха сразу в одном фокусе сошлись.
Действительно, уж очень они разные. Но, может потому и собрались здесь, что на мир смотрят все одинаково, только так: прикидывая и оценивая, сколько он им подаст сегодня. А мир подаёт им и сегодня, и завтра, потому что знает – грех за обман падёт не на дающего, а на берущего...
Подкатила шикарного вида машина. На номерном знаке три семёрки обозначено. А этим-то что нужно? Ведь, судя по номерам, они уже сами себе счастья намерили сколько надо. Грехи что-ли замаливать приехали? Из машины выгружается иностранного вида публика. Шумная, улыбчивая. Всё время что-то жующая. Так и летят в разные стороны салфеточки, оберточки да пластиковые бутылки. Вокруг них, сразу разгадав намерения просящей братии, в боевом каре выступили насупившиеся, как быки-рогачи, бритоголовые мальчики. Странно, почему они кольца на ушах носят? Им бы в нос их продеть – в самый раз. Толпа, тряхнув с досады лохмотьями, отступила, недовольно урча. А тут откуда ни возьмись – Коля. Идёт, светится весь, иностранцам навстречу. Даже бугаи расступились. За гида встречающего приняли. А он и впрямь тут хозяин. Руки раскинул. Улыбается по-детски: легко и светло. И только когда подошёл совсем близко, все сразу поняли, что перед ними милостию Божией блаженный стоит. Качки было двинули к нему, а он им радостно так, совсем чуточку растягивая слова:
– Здравствуйте! Я – Коля! Ну, как вам у нас? Давай поцелуемся!
В глазах только тревога, а ну, как и впрямь не понравится? Иностранцы притихли, с трудом соображая: что всё это значит? А Коля, меж тем, принялся деловито собирать мусор, разбросанный ими же, качая головой и сетуя на беспорядок. Сам он всегда был на редкость аккуратен. Нет, сколько ни учила его старенькая опрятненькая мама просить милостыню, Коля своё предназначение понимал по-другому. Должен же хоть кто-то по-хозяйски встречать гостей, с законной гордостью проводить и показать имвсё самое лучшее, а напоследок поинтересоваться, но уже совсем другим, не заискивающим, а полным сознания исполненного долгаи чувства собственного достоинства тоном: как вам у нас?!
Иностранцы, сказав что-то резкое, отчего секьюрити напряглись, кинулись отворять дверцы иномарки, погрузились в машину, и, почему-то потеряв всякий интерес к древним достопримечательностям русской глубинки, резко взяв с места, растворились за облачком вонючего дыма.
Маленький город готовился отойти ко сну. Ему и самому не было дела до своих достопримечательностей. Последнее время, как грибы после дождя, росли, в основном, питейные заведения, да торговля расцветала пышным цветом.
Как же они? Саньки, Любки, Лёхи, Егорши, Васьки, да ещё Ольги. А никак. Потому что все они – ничьи.
Ну, и как вам у нас...
22 02.01.